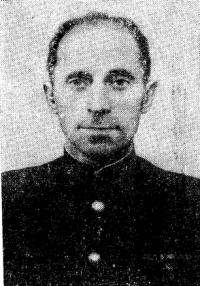Солнечным утром 22 нюня 1941 г. ленинградские яхтсмены готовились поднять паруса. Яхты клуба ВЦСПС собирались в эскадренное плавание с заходом в Петергоф. В Стрельне должно было состояться торжественное открытие яхт-клуба Кировского завода: накануне сюда уже пришли гости — пять ленинградских швертботов...
Все мирные планы перечеркнула война. Едва замолкли репродукторы, извещавшие о вероломном нападении фашистской Германии на СССР, многие из яхтсменов уже явились на призывные пункты.
Информация об изображении
Собравшихся приветствует член редколлегии сборника адмирал Юрий Александрович Пантелеев
К морякам-спортсменам обратилось командование ПВО. Требовалось защитить город со стороны моря — поперек мелководной Невской губы установить баржи с зенитками, аэростатами заграждения, прожекторами.

Собравшихся приветствует член редколлегии сборника адмирал Юрий Александрович Пантелеев
О том, как выполнялось это первое боевое задание, как в годы войны яхтсмены участвовали в битве с захватчиками, — рассказывают ветераны парусного спорта, участники встречи в редакции:
И. П. Матвеев: Началось все с того, что на третий день войны в яхт-клубе ВЦСПС, где я работал начальником учебной части, появилась комиссия из штаба ПВО во главе с энергичным полковником. Искали кого-нибудь, кто хорошо знал бы Невскую губу, — им назвали меня как одного из авторов лоции этого района. Сели в «эмку». Отвезли они меня домой за военным билетом, потом в военкомат, потом в экипаж — вернулся я в клуб в форме старшего лейтенанта помощником командира и начальником штаба базы ПВО Невской губы. Командиром ее был назначен кадровый моряк, впоследствии — капитан 1 ранга С. К. Смирнов.
Ночью стали мы укомплектовывать штат. Требовались надежные люди, знающие морское дело до тонкостей, имеющие опыт вождения судов именно в районе Невской губы. Такими людьми были наши яхтсмены. Несколько яхтенных капитанов я привел из флотского экипажа — специально ходил туда их искать. Снимали нужных людей с кораблей. Во всяком случае из 50 человек личного состава отряда 27 были известными лично мне яхтсменами, а 13 из них — яхтенными капитанами. Это Н. Е. Астратов, Э. И. Бодров, Д. Н. Коровельский, П. А. Круглов,
A. И. и Е. И. Лодкины, А. Н. Мацкевич, Б. Митин, М. А. Сороченков, В. И. Тайнов, В. Н. Хромцов, B. М. Яковлев.
Н. Е. Астратов: Много было молодежи. Вот сейчас сидят здесь капитаны дальнего плавания В. М. Цукерман, Я. И. Эрдман, а ведь в 1941 г. им было не больше семнадцати! Такими же вчерашними школьниками были Валерий Иванов и Владимир Титов, ставшие после войны мастерами спорта. Добровольцами пришли к нам Ю. Глушков, молодые инженеры братья Евгений и Александр Лодкнны, умелые мастера братья Петр и Вениамин Моисеевы, Д. Ветров — Шлюпочник высшей квалификации. Позднее — уже зимой — из госпиталя пришел Ю. Н. Минин. С 4 июля перешли на казарменное положение — жили здесь же, в клубе. Мне довелось начать службу в отряде старшиной I статьи — комендантом буксира, т. е. представителем флота в гражданской команде, а но существу еще и лоцманом.
И. П. Матвеев: Не больше недели ушло на формальности, комплектование части, мобилизацию флота. Собралось у нас около 20 вымпелов — разношерстные катера, двухмачтовые мотоботы из клуба на острове Вольном, буксиры «Экснортлес № 6» и «Кексгольм>>. Получили 60—70 огромных (грузоподъемностью по 800—1200 т) деревянных барж Беломорско-Онежского пароходства, несколько стальных шаланд. К этому времени разработали диспозицию — план расстановки плавучих точек. В первых числах июля уже начали растаскивать эти точки но местам. Работали круглые сутки (благо ночи стояли белые) под руководством главного боцмана А. Н. Мацкевича.
Н. Е. Астратов: Сидели порожние баржи мало — осадка была с полметра, а высота надводного борта доходила (в носу) до 4,5 метров. Удерживать такую махину в сильный ветер на месте — дело сложное! Винтовые якоря Митчела, найденные где-то на складе, оказались слишком легкими — ползли. В конце концов пошли в дело бетонные массивы и чугунные «лягушки»...
Информация об изображении
Справа налево: Ян Эрдман, Михаил Антонов, Константин Каракулин, Дмитрий Коровельский
В. И. Хромцов: Брал наш килектор такую 30-тонную «лягушку» вместе с бочкой и первым прокладывал путь к намеченной точке. Сколько раз бывало, что капитан, взглянув на карту, отказывался идти. Он говорит — «Нельзя, мелко!». А я — комендант, объясняю, что карта врет, что приходилось мне по этим мелким местам на яхте ходить...

Справа налево: Ян Эрдман, Михаил Антонов, Константин Каракулин, Дмитрий Коровельский
Н. Е. Астратов: Под обычную батарею из четырех 85-миллиметровых зениток приходилось надежно швартовать бортами три 50-метровые баржи. На средней надо было все приготовить для размещения поста управления огнем, в ней же оборудовали жилое помещение. На крайних — делали подкрепления под орудия, настилали площадки для прислуги. На одиночных аэростатных баржах сколачивали что-то вроде ангара для стоянки спущенного аэростата, грузовик с лебедкой раскрепляли прямо в трюме. Немало хлопот было и с прожекторными установками.
И. П. Матвеев: Как на грех, личный состав плавучих точек оказался набранным из самых сухопутных областей страны. Экипажи воды боялись, о якорях слышали впервые. Пришлось назначать на каждую баржу морского коменданта из числа взвода курсантов училища Фрунзе. (Нынешний командующий ДКБФ адмирал В. В. Михайлин как раз из этой группы: вообще из нее уже трое стали адмиралами!) В течение июля точно в 30 намеченных диспозицией местах баржи были расставлены. Но хлопот у нас меньше не стало. Ведь пришлось обеспечивать раскиданные по заливу батареи всем необходимым — даже плавучую баню по ночам подавать. Ремонтировали баржи после штормов, снимали раненых...
Так небо Ленинграда оказалось прикрытым и со стороны моря. Наткнувшись и здесь на сильный зенитный огонь и аэростаты, немецкие летчики вынуждены были менять курс или срочно набирать высоту.
В августе — сентябре, однако, положение под Ленинградом ухудшилось. Фашисты вышли на южный берег Невской губы. Баржи ПВО, ни одну из которых так и не смогла уничтожить авиация, оказались теперь под огнем артиллерии. Первой жертвой стала зенитная батарея, стоявшая напротив Петергофа — у приемного буя. Ведь она не имела возможности уклоняться от попаданий, фашисты быстро пристрелялись и баржи запылали, превратившись в огромный костер, в котором рвались снаряды боезапаса. Спасать зенитчиков вышли клубные мотоботы и катера, которыми командовали П. Круглов, Э. Бодров, В. Моисеев, Н. Астратов, И. Матвеев. Умело маневрируя под непрерывным артобстрелом, они снимали людей, висящих на якорных цепях, уже терявших силы. Таким было боевое крещение наших парусников!
Н. Е. Астратов: С того дня немцы принялись методически расстреливать баржи. Осень стояла ясная. Немцы специально держали под охраной «мессеров» аэростат с наблюдателем, чтобы следить за всем происходящим в губе. Ночью пускали осветительные ракеты. ОВРовцам приходилось без перерыва ставить дымовые завесы, чтобы прикрывать крайние баржи и фарватер. По приказу командования мы дежурили наготове — с буксирами — у батарей. Как только по ним открывался огонь, снимали их с позиций, отбуксировывали на новые, более удаленные от немцев места. К концу сентября — октябрю лишь под северным берегом оставались на зимовку четыре прожекторные точки, которые сослужили важную службу при обороне города в зимнее время,
В первые же дни войны встал и вопрос о необходимости охраны входов в Неву и ее многочисленные рукава от возможного проникновения в город диверсантов-разведчиков. Мелководье не позволяло использовать для сторожевой службы боевые корабли. Тогда на базе яхт-клуба «Водник» был сформирован специальный отряд мелкосидящих кораблей по охране водного района города (ОВР) под командованием прекрасного моряка и спортсмена капитана 3 ранга А. М. Богдановича. Его флот на первых порах состоял в основном из спортивных и разъездных катеров и яхт, имевших двигатели. Вооружены эти малозаметные суда были, как правило, ручными пулеметами. В составе команд, кроме краснофлотцев срочной службы, находилось большое число мобилизованных яхтсменов.
Первыми вышли для несения брандвахтенной службы у входов в Елагинский и Петровский фарватеры 38-тонные двухмачтовые крейсерские яхты «Ленинградец» и «Ударник» под командой И. И. Сметанина и Б. П. Дмитриева. Между северным и южным берегами Невской губы стали крейсировать маленькие открытые катера.
В начале августа в системе флотской разведки был сформирован разведотряд, в который специально включили опытных яхтсменов-добровольцев, — таких, как яхтенные капитаны М. Ф. Егоров, Д. Н. Коровельскнй, Д. Г. Мовчан (флаг-штурман отряда), А. Д. Ломов, М. А. Пахомов, Д. А. Ефимов, В. В. Мелвид-Лер. Возглавил отряд известный яхтсмен, участник войны с белофиннами А. В. Курышев — энергичный, волевой, бесконечно преданный своему делу человек (после войны был начальником яхт-клуба ВЦСПС); политруком разведотряда назначили яхтенного капитана С. С. Седова.
Первоначально флот отряда составили пять швертботов-«эмок», несколько мелких моторных катеров и две другие 38-тонные крейсерские яхты «Пионер» и «Стахановец», используемые в качестве плавучих баз разведотряда (капитанами на них были Ломов и Пахомов).
Д. Г. Мовчан: Задания выполняли самые разнообразные — от высадки в тылу врага разведывательных и диверсионных групп до эвакуации своих частей. Приходилось «выяснять обстановку», заходя в занятые врагом бухты, вызывать огонь на себя, засекая положение береговых батарей... Обычно разведчиков забрасывали иа открытых катерах типа КС или на мореходных мелкосидящих швертботах М20. Обратно разведчики «по зеленой», как у нас говорили, самостоятельно выходили к линии фронта или в назначенное время мы приходили за ними. Вот тут и пригодилось хорошее знание акватории, приобретенное за годы мирных крейсерских походов.
С. С. Седов: Из Койвисто мы уходили на «Пионере» последними, уничтожив маяк. Перегружена была яхта сверх всякой меры: приняли, кроме разведчиков, 65 пехотинцев. И только под утро выбрались в залив — двигатель отказал. Я решил поднять паруса. Вспомнить жутко!
Д. Н. Коровельский: После эвакуации Выборга базировались мы на Вольном и на Лавенсаари (ныне Мощный) — острове, расположенном посреди залива, глубоко в тылу врага. Отсюда и осуществлялось большинство операций. Дойти до Лавенсаари тоже было боевой операцией. Вот В. М. Яковлев, которому довелось и воевать на суше — под Колпином и Славянкой, и ходить капитаном многих судов, включая десантные тендера, пишет в своем письме, что самые памятные для него эпизоды войны — это три «обычных» плавания сюда на шхуне «Альмения»...
М. Ф. Егоров: Возвращались не все. В неравной схватке с врагом погибли Б. Н. Лебедев и И. А. Тейтельбаум — это были первые жертвы среди наших яхтсменов-добровольцев. Под Невской Дубровкой геройски погиб яхтенный капитан К. А. Михайлов. Высаживая на маленьким финский островок группу корректировщиков, погиб командир катера —< наш старейший яхтсмен, инициатор создания и первый начальник верфи ВЦСПС Владимир Григорьевич Щепкин. В момент высадки налетели- самолеты, он до последней своей секунды отстреливался из спаренного пулемета. Похоронили его на Лавенсаари.
У меня больше всего воспоминаний связано с Выборгскими шхерами. После того как нас — добровольцев — собрали в Ленинградском комитете физкультуры и представитель флота сообщил, что мы поступаем в распоряжение разведотдела КБФ, наш отряд на крейсерских яхтах и швертботах своим ходом перебазировался как раз сюда — в район Выборга. Здесь приняли боевое крещение, выполняя первые задания. Уходя, взрывали свои батареи в Койвисто, высаживали и принимали разведчиков. Всего не перечтешь!
Информация об изображении
Участники встречи (слева направо): Михаил Пахомов, Сергей Седов, Михаил Егоров
О «рыбалке» в шхерах под Выборгом осенью 1941 г. подробно рассказывалось в статье «Под парусами в тыл врага» (напечатана она была в №32). Добавить, пожалуй, нечего. Только можно уточнить, что ходил я к Ристиниеми несколько раз подряд. Швертбот мой — обычная «эмка» (примерно такая, каких и сейчас еще много в клубах), помимо паруса был снабжен моторчиком. Это позволяло за ночь проходить большое расстояние. Благодаря малой осадке удавалось забираться в такие места и прокладывать курс так, чтобы уменьшить опасность нежелательных встреч...

Участники встречи (слева направо): Михаил Пахомов, Сергей Седов, Михаил Егоров
Если уж стал вспоминать про Выборг, то добавлю, что через два года мне довелось в той же роли разведчика побывать здесь снова. Немцы, готовясь теперь к оборонительным боям, стали, пользуясь шхерными фарватерами, перебрасывать сюда подкрепления и боевые корабли. Я сообщал данные о движении в Выборгском заливе. Как-то радировал о появлении в довольно мелководном районе подводной лодки, а командование ОВРа отнеслось к этому сообщению несерьезно (не может, мол, здесь лодок быть — показалось!). И эта самая лодка торпедировала наш сторожевик. Вот уж после этого ее потопили... И в следующем году при подготовке штурма Карельского вала, в Выборгской операции и при высадке десантов на о-вах Бьеркского архипелага нам, разведчикам, работы было достаточно.
Один из памятных мне эпизодов связан не с парусами — они-то не подводили, а с мотором. В сентябре 41-го высаживали мы, конечно — ночью, группу разведчиков под Стрельной. Мы — трое бывших яхтсменов из клуба Кировского завода, расположенного как раз в этой самой Стрельне: Саша Ян-Сюн, моторист Павел Самойлов и я. Места знакомые, погода прекрасная — к утру густой туман. Па футштоках подошли так, что слышны стали разговоры на берегу. Скинули две надувные лодки, проводили на них разведчиков, высадили их со всеми удобствами — прямо на сушу. Отошли немного в камыш, подождали минут сорок — тихо! Значит, все в порядке, можно идти. И вот тут-то Павел докладывает — мотор не заводится! А туман понемногу расходится, светает. Вот эти полтора часа — пока мотор не заработал, действительно запомнились на всю жизнь...
М. А. Пахомов: Бывали случаи, с точки зрения морской практики невероятные. Вроде «ледового похода» под парусами. Немцы занимают берег, пора наш «Пионер», стоявший у Лисьего Носа, уводить в Ленинград. Свой двигатель, однако, не работает, обещанного буксира нет, а тонкий ледок с каждым часом толще! Поставили всю парусину, какая была, и пошли. Только обломали лед, оторвались от берега и кое-как набрали ход, — сильнейший обстрел. Пришлось еще и маневрировать — во льду, чтобы уклоняться от снарядов врага.
Разведотряд успешно действовал. Смелыми действиями при высадке в Нарвском заливе отличился А. Кокшарский В самые рискованные операции ходили М. Порцель и Б. Яковлев. Деятельность разведотряда не прекращалась и зимой — с Шепелевского маяка, с Лавенсаари и Сескара перебрасывали разведчиков на аэросанях, на буерах.
Ветераны отряда с благодарностью вспоминают работников клуба и верфи К. Т. Туза и С. В. Витта, выполнявших любые, порой самые необычные заказы.
8 ноября Гитлер заявил: «Тот, кто прошел от границы до Ленинграда, может пройти еще десять километров и войти в город», однако ноябрь кончился, а немцы так и не смогли преодолеть эти последние километры. Тем не менее, с тех пор как они у Стрельны — Урицка прорвались к заливу, отрезав части нашей 8-й армии в районе Ораниенбаума, положение оставалось крайне напряженным. Наше командование делало все, чтобы ликвидировать этот прорыв.
Ю. А. Пантелеев: 1 октября я был назначен командующим военно-морской базы, которая должна была организовать морскую оборону Ленинграда, и одновременно — заместителем но морской части командующего войсками внутренней обороны города. Не успел я принять дела, как был вызван в Смольный — в штаб фронта.
Г. К. Жуков встретил довольно сурово:
— Вот сюда, к Стрельпе, завтра на рассвете надо высадить роту морской пехоты. Никаких классических десантных операций не выдумывать. Перевезти роту, и все. Вы эти места знаете?
— Знаю.
— Что-то вы слишком уверенны. Вы же здесь не были, а тут — сплошные мели!
— С детских лет плавал здёсь на швертботе, знаю каждый камень...
Задача была сложная. Подходы к побережью мелкие, каменистые. Не то что корабль, катер ие всякий подойдет. С другой стороны, именно это должно было успокоить немцев, десанта они здесь вряд ли ожидают.
И снова выручили яхтсмены.
М. Н. Богданов: 2 октября вечером меня, в ту пору — командира «охотника», неожиданно вызвали в штаб ОВРа. Здесь я к своему удивлению попал в группу из пяти-шести знакомых мне по довоенным временам яхтсменов. Были в том числе О. Мясоедов и И. Матвеев. На с-как людей, знающих район и все возможные подходы к берегу, назначили командирами групп высадки десанта. В каждой группе но два-три открытых разъездных катера («ЗПС») со шлюпками на буксире. Поехали мы в порт — в Гутуевском ковше уже ожидали катера и десятка два наскоро собранных шлюпок.
Я. И. Эрдман: В это же самое время привели в порт и нас — роту 6-й морской бригады, накануне неожиданно снятую с передовой и переброшенную (на трамвае) в тыл на отдых. По флюгаркам узнал я хорошо знакомые мне клубовские ялы! Рассадила по шлюпкам. Катера взяли нас на буксир и часа в 2 ночи мы вышли из порта. Было темно, ветерок балла 2—3. Когда катера завернули в Золотые ворота — проход в дамбе напротив Стрельны и направились к берегу, все стало ясно. Подошли в полной тишине. Без единого выстрела вышли на берег, здание Пишмаша чернело справа примерно в 200—300 метрах. По камышам двинулись к нему. Как раз начало светать, когда ворота завода распахнулись и поднялась стрельба.
Десант был абсолютной неожиданностью для немцев. Мы забросали гранатами устанавливаемую на берегу батарею, обстреляли дрезину с автоматчиками, подорвали несколько машин па шоссе и рассыпались по лесу. Немцы, однако, вскоре опомнились, начали стягивать свои силы. После тяжелого дня разрозненные группы десантников стали отходить к заливу...
Когда мы, уже совершенно обессилевшие, брели ночью вдоль берега по горло в ледяной воде, наткнулись на троих немцев, прочесывающих камыши на небольшой рыбацкой лодке. Лодку отбили. Нас было сначала четверо, затем подобрали еще двоих раненых. Весел не оказалось. Один из нас отталкивался шестом, другой греб доской, двое касками непрерывно отливали воду. Хотели править на Кронштадт, но когда высунулись из камышей, поняли, что ничего не выйдет: на заливе ветер, лодку стало заливать. Пошли по волне вдоль берега, по самому краю камышей. Одно время, даже под парусом: на шесте подняли плащ-палатку, а правил я доской. Так неожиданно пригодился яхт-клубовский опыт.
М. Н. Богданов: Не знаю как фронтовое командование оценило действия десантников, но в ночь на 5 октября флоту было приказано повторить операцию. На этот раз нас встретили огнем, однако высадка прошла довольно успешно: моя группа высаживалась прямо на дамбе стрельнинского клуба. В судах потерь не было. Когда же мы в третий раз — в следующую ночь, опять пошли с десантом в тот же самый район, встреча была горячей. Теперь уже мы подходили к берегу по всем правилам — после артподготовки и даже под прикрытием нескольких самолетов МБР, однако вполне может быть, что в тишине шансов на успех было бы больше.
Был еще и четвертый десант под Стрельну — 8 октября, но я в его высадке не участвовал.
Итак, во многом благодаря отличному знанию бывшими яхтсменами района боевых действий флоту удалось четырежды и точно в указанных точках высаживать десанты — в общей сложности около 1300 бойцов. Стрельнинские десанты заставили гитлеровцев в эти тяжелые для города дни снять какую-то часть своих атакующих сил для обороны побережья.
Примерно в то же время высаживались десанты в тылу врага под Шлиссельбургом. Один из отрядов вел к месту высадки наш первый чемпион страны по парусу А. К. Бальсевич.
Работники судоверфи ВЦСПС под руководством К. Т. Туза многое делали по ремонту и вооружению кораблей ОВРа — вчерашних яхт и клубовских катеров, по подготовке плавсредств для переправы войск через Неву во время сентябрьских и октябрьских боев на Невском пятачке.
Ю. А. Пантелеев: Помню, приехал я в «Водник», где помещалась база ОВРа. Глянул на реку — и обомлел. Поверхности воды почти не видно. Плоты из шлюпок, подготавливаемых для переброски войск через Неву, сплошь покрывали реку. Говорили, что всего их было собрано около двух тысяч!
Я. И. Эрдман: Из всех экипажей срочно отбирали тогда рулевых и боцманов. Так я попал в специальный отряд моряков, направляемых в район Невской Дубровви на обслуживание войсковых переправ, встретил здесь и кое-кого из молодых яхтсменов. На 8-й переправе работал хозяином шлюпки, пока взрывом не скинуло меня с высокого левого берега вниз...
Пришла зима первого блокадного года. Она была ранней и суровой. Залив быстро замерз. Фашисты могли выйти на лед, чтобы организовать операцию по захвату города со стороны моря. Конечно, принимались все меры по обороне — устанавливались заграждения и минные поля на льду, но, как никогда, нужна была разведка, дозорная служба. Снег еще не выпал, на лыжах бойцы двигаться не могли.
Выручили паруса. Было сформировано два отряда по 16 и 18 буеров, один на базе «Водника», другой — в яхт-клубе ВЦСПС.
Н. Е. Астратов: Одним из первых вышел в разведку заслуженный мастер спорта И. П. Матвеев — чуть ли не на том самом буере, на котором перед войной поставил рекорд скорости. Однажды целым отрядом ходили в район Петергофа — обнаружили там вынесенные на лед наблюдательные посты противника. Был и такой случай. Летчики заметили, что на торчавшем из воды корпусе затонувшего буксира (недалеко от Васильевского острова) что-то делают немцы. Для выяснения обстановки срочно выслали буер под командой младшего лейтенанта Б. П. Дмитриева. Он неожиданно налетел на фашистов, многих уложил пулеметным огнем, а главное установил, что они пытались поднять антенну над рубкой буксира. Это был бы весьма опасный наблюдательный пост врага на подходах к городу! Одна из наших батарей открыла огонь. Вторично посланный буер обнаружил на льду лишь трупы.
Вскоре было выяснено, что немцы по ночам выходили по льду к Морскому каналу, пробивали лунки и через них спускали в воду мины. Надо было своевременно обнаружить эти лунки, чтобы успеть подорвать мины до прохода наших кораблей. Это неоднократно делали буера под командой главстаршины А. Н. Мацкевича, бывшего начальника гавани клуба А. А. Кукина, известного яхтсмена Н. М. Ермакова. Они доставляли к свежим лункам специалистов-минеров с глубинными бомбами. Кто знает, сколько кораблей и сколько жизней спасли они этим?
М. Н. Богданов: Когда с наступлением зимы мы подняли свои «охотники» на берег — в ЦПКиО имени Кирова, я узнал, что рядом, в клубе «Водник» бывшие яхтсмены организуют специальный отряд и собираются вооружать буера. Как бывший буерист я сразу же пошел туда. Нам была поручена охрана города с западной стороны. Ходили группами по три буера, чаще всего ночью. Буера-«площадки» были разнотипные, но большие, чаще всего гафельные, с кормовым рулевым коньком. На решетке, огражденной поставленной на ребро доской, умещалось по 8—10 матросов с пулеметом.
Информация об изображении
Участники встречи (слева направо): Владимир Цукерман, Алексей Карпов, Юрий Селезнев
Надо еще сказать, что буера (особенно из отряда Матвеева, на базе клуба ВЦСПС) широко использовались для доставки всех необходимых грузов и людей на зимовавшие во льду баржи ПВО.

Участники встречи (слева направо): Владимир Цукерман, Алексей Карпов, Юрий Селезнев
Водителями буеров были, помимо названных ранее, еще и П. Круглов, Э. Бодров, В. Тайнов, В. Качегин, М. Сороченков, А. Лодкин, Е. Лодкин, В. Иванов, В. Титов.
После нового года хорошей буерной дороги уже не было. Помню, что на буере № 22 я пошел к самой северной из вмерзших в лед барж, а тут повалил снег, пришлось буер оставить на льду. Нас перебросили иа Лесной мол в лыжный отряд охраны порта. А часть буеров еще раньше повезли на Ладогу.
Многое можно рассказывать об участии ленинградских яхтсменов в создании Дороги жизни. Одни из них были брошены на строительство причалов, другие попали в распоряжение ОВРа Ладожской флотилии — вместе со своими судами, третьи оказались здесь с буерами.
В. И. Хромцов: Как-то в сентябре темной ночью наш бот-«пайлот» краном поставили иа железнодорожную платформу, и мы с Володей Петраковым поехали на Ладогу. Что мы только здесь не делали. В бухте Морье ставили пирсы. Возили продукты. Помню, 5 ноября вели баркасы с десантом к Буграм, на южный берег Шлпссельбургской бухты. Ночью ударил мороз. Пришлось нам раскачивать бот, чтобы разломать лед вокруг и вовремя —- до рассвета — отойти от занятого немцами берега.
Где-то в середине ноября встретили мы знакомых яхтклубовцев. Оип оказались здесь с буерным отрядом. Зимой нам с Володей на боте делать было пе-чего, мы и попросили начальство откомандировать нас в этот отряд — в распоряжение Ивана Ивановича Сметанина.
Лейтенант II. И. Сметанин — опытнейший яхтсмен — был командиром специального, сформированного на базе яхт-клуба ВЦСПС отряда из 75 буеристов и матросов ОВРа, знакомых с парусом. Комиссаром назначили А. А. Шакуна, старшиной команды — М. А. Михайлова.
Для отправки на Ладогу отобрали 19 самых крепких буеров. Были в их числе и легкие — гоночные, хорошо приспособленные для разведки (называли их «кукарачами» — они имели передний рулевой конек, мачту с подкосами; парусность составляла 35—40 м2), и обычные «площадки».
Ночью на 16 ноября отряд прибыл железной дорогой к Осиповецкому маяку. Выгрузились, за ночь при 25-градусном морозе собрали и вооружили буера, а утром по береговому припаю со свежим ветром пришли на рейд рыбацкой деревни Кокорево, где помещался штаб ледовой дороги. Через два-три дня (называемые даты не сходятся) состоялся и первый боевой выход на лед.
Из воспоминаний Е. И. Лодкина: Три буера, командирами которых были Владимир Качегин, Василий Хромцов и я, вышли в озеро, имея задание произвести разведку в районе Бугровского маяка — нет ли немцев на льду? — и далее идти в Кобону, чтобы взять бензин. Я шел па буере, имевшем на парусе № 13. Вышли в озеро, ориентируясь по компасам. Найти нужный район для нас труда не составляло. Лед на озере был отличный — ровный, хотя и тонкий, ветер около 4 баллов, скорость до 50—60 км/ч. Ночь лунная, видимость довольно приличная. В районе Бугровского маяка сделали несколько галсов — немцев не обнаружили. Отошли к северу и направились в Кобону.
В. И. Xромцов: Встретили самый первый конный обоз: впереди на легких извозчичьих саночках ехал сам начальник дороги. Добрались до Кобоны благополучно. Я шел на своем буере № 52 («чертогоне» — по тогдашней «классификации») из клуба «Водник». Он был гафельным, нес примерно 55 м2 парусности.
Из воспоминаний Е. И. Лодкина: Погрузили по две бочки бензина. Обратный путь был тяжел. Буера перегружены, управляются плохо, скорости нет. Хорошо, что шли в бакштаг! На каждом буере кроме командира двое-трое шкотовых, им не раз приходилось разгонять тяжелые буера. Не обошлось без происшествий. Дело в том, что днем немцы бомбили и вели артобстрел обозов и цепочки людей, переносивших в заплечных мешках продовольствие для ленинградцев. Лед был разрушен, вода на морозе быстро покрывалась тонкой пленкой, эта пленка блестела так же, как основной лед, и ночью разглядеть ловушку было трудно. И вот, когда буера прошли уже больше половины пути, мой буер провалился в воду. Пришлось убирать паруса, сбрасывать бочки в воду, все по отдельности вытаскивать на крепкий лед (имевший толщину не больше 8—10 см), вновь вооружать буер, грузить его. Надо помнить, что все это на ветру и при морозе 15—20°. Помогли товарищи — подошли Хромцов и Качегин. Вскоре буер Хромцова попал коньком в трещину, конек не выдержал, лопнул. И опять — общими усилиями заменяли конек. Еще много раз выручала нас взаимная помощь, особенно при проходе линии торосов, идущей вдоль берега! Только к утру пришли в Кокорево. Нас встречали, нас ждали. Бензин из бочек прямо с буеров разливали в ведра и заправляли автомашины. К утру колонна автомашин пошла в Ленинград; она везла продукты — самые первые продукты, доставленные через лед.
Этот первый рейс через Ладогу запомнился на всю жизнь. После этого начались грузовые рейсы в Кобону. Выходили на лед и днем и ночью. Иногда «юнкерсы» устраивали за нами охоту. Выручала высокая маневренность и скорость буера — до 100 км/ч. Стремились идти на сближение с самолетом и в большинстве случаев получалось удачно, но были и раненые...
В. И. Хромцов: Чаще всего удавалось сделать по два рейса в день. Возили муку, медикаменты. Муки обычно брали по шесть мешков. Больше нельзя — и буер не выдержал бы, и вдвоем не управиться, если застрянешь. Подбирали мешки, оставшиеся на льду после обстрела обозов...
Вспоминая те дни, буеристы рассказывают, что самое сильное впечатление оставила у них перевозка на Большую землю обессилевших от голода ленинградцев и особенно детей. Перелетев на буере через озеро, если ветер был хороший, за какие-нибудь полчаса, спасенные просто не верили этому. Не один десяток людей перевезли В. Хромцов, М. Антонов, B. Петраков, Ю. Глушков. Самоотверженно работали C. Витт, В. Качегин, Е. Лодкин, О. Мясоедов, М. Михайлов, А. Шакун.
Лед становился толще. 22 ноября, когда толщина его достигла 15—20 см, на лед вышли первые грузовики. Понемногу грузовые операции под парусами отошли на задний план, на буерный отряд возложили охрану трассы и ведение разведки в районе к югу от нее.
Из воспоминаний Е. И. Лодкина: В середине декабря после сильных снегопадов дорога для буеров стала тяжелой. Пришлось отряду моряков вставать на лыжи. К этому времени на Ладожском льду вдоль трассы появились свои батареи, санитарные палатки, посты охраны. Капитан 2 ранга М. А. Нефедов — начальник ледокого участка Дороги жизни лично поставил новую задачу: помогать автомобилистам, используя свой опыт и умение работать на льду. Ведь машины часто застревали, проваливались в полыньи, были повреждены обстрелом. Мы помогали вытаскивать их, перегружать драгоценные грузы. Помню, в метель сбился с дороги автофургон с радиостанцией и угодил в полынью. За один день мы подняли машину и отвелн на крепкий лед. Конечно, помог навык в любых такелажных работах. В марте особенно тяжело стало шоферам: выступила вода, не было видно, где есть лед, а где его нет. Приходилось выставлять посты у «традиционных» трещин.
10—12 марта получили приказ буера разоружить. И. И. Сметанина и большую часть буеристов отозвали в Ленинград, а буера — одни увезли, другие передали Ладожской флотилии.
В. И. Xромцов: Принял буера тоже бывший яхтсмен, теперь командир «охотника» — Павел Никифоров. Укомплектовали их молодыми ребятами с «охотников», причем и из них большинство составили бывшие яхтсмены. И попали мы с Петраковым — я на буере № 52, а он на своем № 5 — в распоряжение разведотдела флотилии.
Зимой 1942—1943 гг. жили в Кокорево, в доме № 45.
Однажды приказали нам срочно перекинуть через озеро группу офицеров. Очевидно, задание было важным, поскольку нам обещали даже прикрытие с воздуха, что было редкостью по тем временам. Дуло хорошо, идти предстояло в полветра. Рассадили мы с Володей офицеров — по 6 человек на буер — и пошли. Швыряло мой буер страшно — обнаружился сильный люфт в рулевой трубе. Кричу своим офицерам — «Держитесь крепче!» Уже показалась Кобона, когда налетели «мессера» — штук восемь-девять, а наших-то истребителей нет как иет! Прошлись немцы первыми очередями — только стена ледяной пыли встала. Заложил поворот. И начали мы с Володей крутить, уходя от пикирующих на буера самолетов, так, что шапки с наших пассажиров послетали. Только бы, думаю, в штопор не занесло. Ничего с нами немцы поделать так и не смогли. Да и вообще я не зиаю случая, чтобы им удалось уничтожить буер.
В другой раз четыре наших буера (Никифоров, Качегин, Петраков и я) должны были перебросить группу разведчиков через Свирскую губу — в тыл немцам, миль за 20 от линии фронта. Пошли мы сначала в деревню Сторожно знапомиться с обстановкой. А обстановка сложная — в губе подвижка льда, трещины и торосы, много камней и островков. На островах мины, на берегу заграждения. Заблудиться легко, Идти-то можно только ночью, важна скрытность, а надо сказать, ориентироваться на буере вообще очень сложно: ветер всегда в лицо, так как буер летит быстрее ветра. Пришлось забраться на маяк, регулярно — каждые два часа — обстреливаемый специально «закрепленным» за ним «мессером», и сверху составить своеобразную карту, наметив путь между препятствиями. Дождались подходящего ветра, как раз к тому времени окончательно укомплектовалась и группа разведчиков. Помню, что эти разведчики, очевидно, не очень то надеявшиеся на буера и на точность нашей ночной навигации, были крайне удивлены, быстро оказавшись именно там, где им следовало выходить иа берег...
Вееной 1942 г. значительная часть разведотряда вместе со своими катерами и яхтами была переброшена на Ладожекое озеро.
М. А. Пахомов: И здесь, на Ладоге, мы имели много случаев убедиться в пользе крейсерских плаваний. Только чутье и опыт яхтеменов помогали, скажем, ориентироваться ночью в шхерных районах, ходить в такую погоду и там, где никто никогда не ходил. А Ладогу я знал, мог нариеовать каждый островок. Поэтому часто приходилось выступать в роли лоцмана. Помню такой эпизод. Осенью один из разведчиков, заброшенных на острова в северной части озера, еообщил, что где-то рядом находится база боевых катеров, а мимо него в одно и то же время проходит на базу и обратно небольшой посыльный катерок. Было решено захватить этот катер, чтобы добыть языка и вьмснить, что там за база. Два наших «охотника» ночью подошли к указанному району. Теперь надо было как-то замаскироваться, чтобы нас не обнаружили до того, как днем появится поеыльный катер. Советую командиру пока не поздно подойти вплотную к берегу одного из оетровков. А он боится сойти с пятиметровой изобаты, отмеченной на карте. Пришлоеь употребить вееь авторитет бывалого яхтемена, доказывая что, судя по характеру берегов, здесь достаточно глубоко. Убедил. Стали вплотную к екалам, замаскировались деревьями, кустарником, да так, что проходившие на рассвете совеем рядом патрульные немецкие катера ничего не заподозрили.
Кстати сказать, языки, перевозившие почту, оказались очень ценными. От них, например, узнали, что немцы перебросили на Ладогу 20 хорошо вооруженных десантных паромов типа «Зибель» и особо тщательно маскируют их, запрятав под причалы двойной ширины. После этого октябрьский десант на о-в Сухо уже не оказался неожиданностью...
И. П. Матвеев: Весной 1942 г. было решено снять остававшиеся во льдах точки ПВО, чтобы их не сорвал с якорей и не доконал ледоход. Помню самый сложный рейс в ночь на 1-е мая. Без всяких огней и обстановки нужно было ночью пробиваться через лед на двух самых мощных буксирах. Гарантированная когда-то глубина на фарватере — 2,4 м. Осадка буксиров тоже 2,4 м. Дошли, окололи лед вокруг и увести баржи успели вовремя: когда рассвело, мы уже были прикрыты островами. А вообще-то в светлое время достаточно было только высунуться из-за Вольного — начиналась пальба. Пристрелялись они хорошо...
После зимнего ремонта потребовалось перевести в Кронштадт несколько подводных лодок для действий на коммуникациях фашистов и ряд других кораблей. Гидрографы срочно наметили новый фарватер вдоль северного берега, максимально удаленный от немецкого наблюдения и артиллерии. Этим путем раньше никогда никто не ходил, кроме яхтсменов. Вот почему лоцманами были назначены яхтенные капитаны И. П. Матвеев, а затем — с его легкой руки, Н. Е. Астратов, А. А. Кукин, В. И. Хромцов, П. И. Круглов, Э. И. Бодров, В. И. Тайнов.
Н. Е. Астратов: Хотя проводки осуществлялись только в ночное время, нередко приходилось идти под огнем. Спасали только дымзавесы. А ответственность большая: сядет корабль на грунт, наутро его обнаружат и обстреляют. И. П. Матвеев ухитрялся проводить не только тральщики, канонерки и подводные лодки «малютки», но и лодки типа «С», хотя теоретически это было просто невозможно. Помню, повел свой первый корабль и я. Был это танкер «Шахтер». Стою на мостике и отчетлива вижу, что отмель вот-вот окажется под корпусом. А кругом то и дело встают «свечки» от фашистских снарядов, и обдает нас не столько водою, сколько грязью с грунта. Нет-нет да и «пропищит» танкер по песку днищем...
И. П. Матвеев: Поздней осенью 1943 г., когда в Невской губе уже стал лед, караван из шести кораблей и барж ночью шел в Ленинград. Видимость была плохой. Это требовало особой точности движения по специально зажигаемым на время проводки огням. И вдруг обнаружилось, что на подходе к Петровскому фарватеру — на отмели острова Вольный один огонь створа почему-то не горит. А ведь без этого огня каравану в Неву не войти! «Столпятся» корабли на входе в узкий фарватер — с рассветом их обнаружат... С краснофлотцами Шубиным и Труфановым схватили мы пару досок, концы для страховки, баллон с ацетиленом (для питания огня) на плечи и побежали. Где по льду, где по пояс в холодной воде. Знак-то был расположен на самом конце отмели — добрый километр пути! Еле добрались, но повреждение исправили.
Всю эту осень яхтсмены работали как гидрографы и лоцмана, капитаны буксиров, боцмана и шкиперы барж: все средства были мобилизованы на переброску частей 2-й ударной армии на Ораниенбаумский плацдарм, который в сентябре 1941 г. немцы поторопились назвать «котлом». От причалов у фабрики Канат и на Калашниковской набережной, а также с Лисьего Носа в Ораниенбаум было скрытно перевезено 52,5 тыс. человек, огромное количество боевой техники. Считается, что вспомогательные суда сделали на плацдарм 600 ночных рейдов, каждый из которых был серьезной боевой операцией. И снова встречи: так, Я. И. Эрдман попал на буксир капитана П. И. Круглова, на котором за штурвалом стоял В. Д. Дмитриев...
Началось наступление.
Боевой отряд
Ленинград, 13 июля 1941 г. Из газеты «Смена».
...Как только грянула война с немецкими фашистами, учебный отряд яхт-клуба в полном составе подал заявление начальнику яхт-клуба: «Хотим добровольно идти на фронт».
Многим в зачислении все же отказали — молоды.
— Не сегодня, так завтра, — решили молодые моряки и еще энергичнее взялись за учебу. А более счастливые — кто постарше — уже добились зачисления во флот.
Восемнадцатилетний комсомолец Жигневский, сын моряка, принят во флот. В яхт-клубе юноша отлично сдал экзамены на яхтенного рулевого. На боевой корабль он пришел вполне подготовленным бойцом. Вслед за ним ушли его сверстники Леонид Сенатский, Сергей Дубинин, Владимир Волков, Валентин Глушков и другие — все с правами рулевых второго и первого разрядов.
Женщины-яхтсмены, как и мужчины, в первый же день войны заявили о своей готовности встать в ряды бойцов. Капитаны яхт Романова, Пылкова, Федорова вместе со своими командами изъявили желание поступить в распоряжение Военно-Морского Флота. Сейчас они регулярно тренируют свои команды, устраивают военизированные учения.
Девушки сформировали морской санитарный Отряд. В него вошли Наташа Руатиан, Людмила Петухова, Татьяна Полозова и другие молодые яхтсменки.
Материал подготовили. Н. Е. Астратов, В. Т. Григорьев, К. Б. Каракулин, Ю. С. Казаров, Ю. А. Пантелеев. Кроме записи выступлений использованы впервые публикуемые воспоминания ряда товарищей; эти документы цитируются так же, как и выступления.